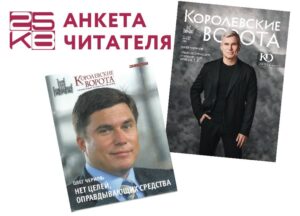Накануне программы «Славик – как всё было на самом деле»18+, которая пройдёт 17 мая в Драмтеатре, «Королевские ворота» поговорили с актёром Павлом Деревянко о взглядах на жизнь, профессию и об участии в проекте «Беспринцыпные чтения»
На счету Павла Деревянко полторы сотни работ в кино и театре – от героического защитника Брестской крепости, комиссара Ефима Фомина, до комичного Наполеона Бонапарта в недавнем хите проката «Холоп 2».
17 мая на сцене Калининградского драмтеатра актёра можно будет увидеть в программе «Славик – как всё было на самом деле». В рамках литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» вместе с писателем Александром Цыпкиным они представят одного из самых любимых и узнаваемых персонажей нашумевшего сериала о жителях Патриков, «короля лжи» Славика. В интервью «Королевским воротам» Павел Деревянко рассказал о том, как эта роль отразилась на актёрской карьере, что изменилось в его жизни с появлением дочерей и почему ему не важен гонорар в работе с режиссёром Жорой Крыжовниковым.
– Писатель Александр Цыпкин не скрывает, что Славик, роль которого вы много лет играете в «Беспринципных», – самый любимый его герой. Насколько гармонично вы себя чувствуете в этом образе?
– За четыре года существования «Беспринципных» я уже свыкся со своим героем. Полюбил его, затем разлюбил и снова полюбил. Зрителям он очень нравится. Да и Саша не зря его любит больше остальных персонажей, ведь Славик — самый яркий, самый смешной, самый живой, как мне кажется. Хотя все хороши.
– Обсуждает ли Александр Цыпкин с вами сценарные ходы или фразы, которые он пишет для персонажа?
– Нет, со мной линии поведения героя он не обсуждает.
– Насколько амплуа «короля лжи», как называет Цыпкин Славика, вам мешает или помогает в карьере? Этот образ сильно «привязался» к вам?
– Славик уже в моей крови (смеётся). Что касается зрительского успеха, популярности, конечно, мне мой Славик прибавил в этом плане. А насчёт карьеры, вы знаете, нет дыма без огня. В одном месте прибыло, в другом убыло. Вероятно, какие-то последствия есть и от этого комичного персонажа: серьёзные роли мне предлагают не так часто, как хотелось бы.
– Вы себя больше считаете театральным или киноактёром? И есть ли разница?
– Между театральным и киноактёром разница, конечно, есть. Кто-то вам скажет – огромная, кто-то скажет – небольшая. Дело в нюансах. Я, так сказать, на два фронта работаю, в театре и в кино, но киноиндустрия мне больше по душе, комфортнее. А что касается именно Славика на сцене, то мы просто читаем про него рассказы. Там никакого драматического исполнения нет.
– Вас часто приглашают озвучивать животных. Можно вспомнить Конька-Горбунка, Змея-Горыныча, пса Шарика из «Простоквашино», да и рыжего кота в недавнем сериале «Котострофа». Наверное, нужно очень любить животных? У вас есть домашний питомец?
– Животных я люблю, но, конечно, не надоедливых (смеётся). У меня, к сожалению, нет питомца, но я бы с огромным удовольствием завёл себе кота, какого-нибудь красивого, пушистого, мощного и в то же время ласкового. Но мои частые отъезды не дают этого сделать.
– У вас две дочери. Отцовство изменило ваше отношение к жизни?
– Странно было бы, если бы рождение дочерей прям кардинально изменило. Но, безусловно, это сильно прибавило ответственности, внимания. С появлением детей, да и, конечно, с возрастом человек становится мягче.
– Несколько лет назад вы говорили в интервью, что не хотели бы, чтобы дочери пошли по вашим стопам и стали актрисами. Изменилось ли что-то с тех пор?
– Сейчас я не наблюдаю в девчонках стремления к актёрской деятельности, к какой-то сценической выразительности. Младшая (Александра. – Авт.) пока определяется. Вот буквально на днях узнал, что ей очень нравится графический дизайн. Она уже выполняет на компьютере какие-то задания, ей интересно. Она классно рисует и работает с цветом. Ну а старшая, Варька, готовит тортики и пирожные, хочет стать самым лучшим кондитером в мире.
– Далеко не все фильмы с вашим участием получают высокую оценку зрителей и критиков. Как вы относитесь к негативным отзывам?
– У меня, по-моему, около 160 работ. Разумеется, не все они хороши. Но многие из них классные, мне и зрителям нравятся. Есть, конечно, в достаточном количестве всякого. Но это нормально, это путь, история, опыт. Надо пережить, чтобы понять, увидеть, где всё правильно сделал, а где налажал. Я вполне нормально отношусь к конструктивной критике, а всё остальное – вкусовщина.
– Время от времени голливудские звёзды отказываются от высоких гонораров ради интересной роли или возможности сниматься у именитого режиссёра. Для вас есть имена в российском кинематографе, работать с которыми вы готовы на любых условиях?
– В фильме «Подельники» я играл брутального, жёсткого персонажа Витю Людоеда. Я так хотел сыграть эту роль! Она нетипична для меня. Вернее, не похожа на то, как зритель меня воспринимает. За те съёмки я получил чисто символические деньги. Вообще я с огромным удовольствием работаю с большими режиссёрами. И очень хотел бы посотрудничать с Жорой Крыжовниковым (режиссёром сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». – Авт.). Надеюсь, получится.
– В новом сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»18+ вы исполняете роль заносчивого столичного актёра. Что общего у вас с этим героем, кроме имени и фамилии?
– Что общего у меня с Деревянко-Ломоносовым? Наверное, много чего… Но также и мало. Ну, во-первых, я изображал самого себя, стало быть, на экране я как минимум на себя похож, ведь как себя играть, я знаю (смеётся). Для этого образа я также взял поведение некоторых коллег по цеху. Поэтому персонаж у меня получился немножко зарвавшийся, не скажу, что выскочка, ну такой, как это правильно сказать, пустозвон.
– Гениальная актриса Мэй Уэст говорила, что женщина настолько стара, насколько она себя чувствует, а мужчина стар, когда уже ничего не чувствует. Есть ли у вас рецепт, как с годами сохранить пылкость сердца и трезвость ума?
– Чтобы сохранить любовь к жизни, любовь к себе, искренность, красоту, молодость, нужно любить жизнь, любить людей и, конечно, любить себя. И, на мой взгляд, это просто. И, безусловно, быть профессионалом.
Илья Ефимов
Фотография Сергея Аутраша
 Кто сказал, что завтрак не может стать маленьким праздником? В кондитерской-бутике «Муза», где каждое блюдо в меню – произведение кулинарного искусства, знают, как сделать утро ярким, вкусным и оригинальным.
Кто сказал, что завтрак не может стать маленьким праздником? В кондитерской-бутике «Муза», где каждое блюдо в меню – произведение кулинарного искусства, знают, как сделать утро ярким, вкусным и оригинальным.



 Всё больше людей стремятся сохранить молодость и здоровье на долгие годы. Превентивная медицина не только предупреждает возникновение заболеваний, но и способствует омоложению организма, позволяя человеку сохранить энергию, жизненный тонус и красоту. Этот вид медицины включает в себя целый спектр мероприятий, направленный на поддержание и улучшение здоровья.
Всё больше людей стремятся сохранить молодость и здоровье на долгие годы. Превентивная медицина не только предупреждает возникновение заболеваний, но и способствует омоложению организма, позволяя человеку сохранить энергию, жизненный тонус и красоту. Этот вид медицины включает в себя целый спектр мероприятий, направленный на поддержание и улучшение здоровья.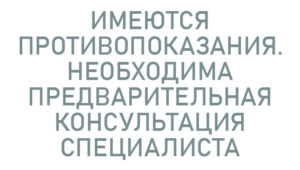

 Ресторан авторской кухни Moryana – пожалуй, одно из заметных мест для поклонников морской гастрономии. И завтраки шеф-повара Ильи Афанасьева не являются исключением.
Ресторан авторской кухни Moryana – пожалуй, одно из заметных мест для поклонников морской гастрономии. И завтраки шеф-повара Ильи Афанасьева не являются исключением.