
Старший научный сотрудник, научный руководитель Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук БФУ им. Канта, кандидат философских наук Андрей Тесля о манифесте Богомолова, о том, кто задаёт тренды новой этики и почему общество волнует памятник Дзержинскому на Лубянке
— Термин «новая этика» сегодня представляется размытым и описывающим разные процессы. Например, новую волну российского феминизма, культуру отмены, борьбу с харассментом, протесты против расизма. Что он означает для вас?
— Нужно сказать, что «новая этика» в данном случае — не перевод иностранного термина, а именно русское понятие. Оно обозначает целый ряд процессов, соединение самых разных вещей, широкий спектр позиций, набирающих силу последние 15–20 лет. В частности, в качестве новой этики можно определить то, что в американском контексте называют cancel culture. В России, когда речь обычно идёт о новой этике, соединяют целый круг достаточно разных явлений, и в этом есть своя логика. Теперь перед нами не просто набор отдельных процессов, связанных с достаточно большими этическими представлениями. Мы наблюдаем, как меняется этика, формируется радикально новая система взглядов о том, что является нравственным, моральным и должным.
— Могли бы вы назвать формирование новой этики важнейшим общественно-политическим процессом современного мира?
— Мне кажется, один из важных моментов, который стоит обсуждать, — то, на какие процессы мы реагируем, и где именно они происходят. Во многом в вопросах новой этики речь идёт, с одной стороны, о некоем усреднённом Западе, а с другой — подразумеваются довольно конкретные американские вещи. И утверждается, что американский контекст имеет глобальное значение. США мыслятся здесь как страна, задающая общемировые тренды. Но у такой позиции есть своя слабость. Если говорить о Западной Европе, то сложно утверждать, что она жёстко и последовательно воспроизводит американский сюжет. Мы не видим этого на протяжении предшествующих десятилетий. Но утверждать, что так и будет, — очень сильное допущение.
— О каком американском контексте мы говорим?
— Начнём с того, что для американского восприятия свойственно видеть себя в абсолютно универсалистском ключе. Их определённые проблемы, решения и повестки должны быть на первом плане везде. Классический и очень важный вопрос об афроамериканцах, связанный с сегрегацией, правовым неравенством. Очень болезненная проблема для страны. Это история про американский Юг, про прошлое рабовладение, которое нельзя сравнить, скажем, с крепостным правом потому, что оно построено на видимом антропологическом признаке. В период американской реконструкции бывшие конфедераты во многом получили признание. А недавно всё обострилось и произошло свержение памятников лидерам конфедерации, лидерам Юга.
— А почему этот контекст не калькируется Европой? Есть же историческая память и, скажем, мощный триггер, связанный с расизмом во время Второй мировой, тот же еврейский вопрос?
— Не калькируется элементарно. Хотя бы потому, что европейских сюжетов много. Если брать контексты, связанные с Францией и Германией, то это память о Холокосте. Память о еврейском народе, который был частью гражданского общества, нации и затем выделен по этническому признаку, объявлен чужим, другим, физически уничтожен. И что очень важно, евреи более не присутствуют в этом пространстве. Например, в Германии уже не обнаружить огромной еврейской общины, существовавшей ранее. Иными словами, если мы говорим о западноевропейской вине, речь не о меньшинстве, требующем себе особых прав, а о вине присутствующих.
— В своем манифесте режиссёр Константин Богомолов называет новую этику «новым рейхом», в котором несогласному не скрыться от блюстителей этической чистоты. Он говорит: человек — сложное и противоречивое существо, и считает, что, освободившись от нацизма, Запад решил ликвидировать сложного человека, его тёмную звериную природу. Вы согласны с этим?
— Конечно, нет. Это лозунги, а не какое-то аналитическое высказывание. С ними очень трудно согласиться или не согласиться. Например, не очень понятно, где упомянутый Запад находится.
Определённые проблемы, о которых говорит Богомолов, действительно рифмуются с тем, что можно опознать как происходящее. В манифесте вообще-то звучит старый внутренний европейский спор об антропологии, природе человека и о том, насколько зло носит онтологический характер.

Здесь можно вспомнить Канта и его знаменитое утверждение об изначально злой природе человека. Чисто логически мы понимаем: в отношении человеческой природы у нас есть три возможные раскраски. Есть утверждение о его изначально доброй природе, и, следовательно, источник зла лежит где-то вовне. У Руссо это общество, культура — она портит человека. Есть представление об изначально злом человеке, имеется в виду первородный грех, повреждённость человеческой природы. Например, августиновский взгляд, где человек находится вне райского состояния с момента грехопадения. Сам он с этим злом справиться не может, ему нужна божественная помощь, благодать. Поэтому вера в свои силы, упование только на себя по определению ведут к злу. И, наконец, третий взгляд. Можно вспомнить хотя бы Гоббса, который говорит, что человек нейтрален. Его нельзя самого по себе описать ни в категории злого, ни в категории доброго — эти разграничения возникают уже в рамках общества.
— Если вернуться к манифесту, то господин Богомолов утверждает, что в западном мире функции суда делегированы от государства обществу, борющемуся с инакомыслием, и таким образом у человека отобрали право свободно ненавидеть. Как вы считаете, нужно ли это право, если оно оскорбляет определённые группы людей?
— Сильно не уверен в рамках своего знания истории культуры, что у человека когда-то было право свободно ненавидеть кого угодно. Вопрос скорее в том, где теперь проходит граница этого отношения, против кого ты можешь объединяться в своей ненависти. А ещё, какая форма неприятия является недопустимой для выражения в публичном пространстве. Никто же не мешает свободно ненавидеть господина Богомолова и его высказывания. Думаю, ключевой вопрос, с которым связан пафос его манифеста, в том, что эта этическая оценка распространяется на человека в целом.
— Похоже, что с новой этикой конфликтуют те, кто большую часть жизни провёл при других порядках и правилах игры. Может быть, те самые бумеры.
— В этом есть доля правды. Правила, по которым играешь, зримо меняются на протяжении твоей жизни, ещё не очень большой. И мало того, что они меняются, но вдобавок ещё и обращаются в прошлое. Например, Кевин Спейси трогал за коленку молодого актёра и тем самым нанёс ему такую душевную травму в 1997 году, что тот спустя 20 с лишним лет не может с этим жить. Более того, по представлениям 1997 года ничего возмутительного в произошедшей ситуации не было. Сейчас есть. Получается, о действиях, совершённых в одном контексте, судят по другому контексту. И здесь оказывается недопустимым просто молчание. По правилам новой этики необходимо деятельное покаяние за прошлые действия.
— С новой этикой тесно связано и другое явление — культура отмены, когда из публичной жизни исключают человека, чьи поступки считаются аморальными. По-вашему, это цензура и травля или наступившая социальная ответственность?
— Полагаю, это очень узнаваемо для нашей страны, поскольку у нас есть опыт кампаний 20–30-х годов прошлого века или, например, хоть вегетарианской брежневской эпохи.
С очень хорошо различимыми звонкими комсомольскими голосами. Мы помним, как выглядят ребята с горящими глазами за разбирательством персонального дела. В подобной риторике людям с советским прошлым в личном или культурном бэкграунде слышится нечто такое родное, до боли тошное. Это могут быть любые лозунги. Начиная от безмерной любви к партии и правительству, нормам ленинской этики и заканчивая православием. И чаще всего звучат они от молодых, агрессивных и непуганых. В том смысле, что они не понимают: мясорубка затем точно так же обращается с ними, и что их действия будут иметь последствия. У них нет особого социального опыта, они юные, злые и рады растерзать. Естественно, всё делается с позиции очередного верного учения, верных взглядов, борьбы за правду и за абсолютно прекрасные вещи.
— Не открывает ли это явление некий ящик Пандоры, когда в принципе оскорбиться могут абсолютно любые люди и по любому поводу?
— Далеко не любые люди могут оскорбиться, а те, кто получает общественную поддержку в рамках существующей системы взглядов, мейнстрима.
— Речь о каком-то меньшинстве?
— О тех, кто находится в фокусе. Например, если вспомнить про американскую ситуацию, то у нас образ этой страны во многом сводится к истории про условно белых северных людей, с одной стороны, и афроамериканцев — с другой. Обратите внимание, что, например, у индейских общин США возможности столь эффектно оскорбиться и требовать прав нет, они куда менее заметны. Их попытки играть на этом поле не встречают особой поддержки.
— Культура отмены касается сферы искусства. Во Франции решили переименовать роман Агаты Кристи «10 негритят»16+ на «Их было десять». Сервис HBO изъял фильм 1939 года «Унесённые ветром»12+ как расистский, впоследствии вернул, сопроводив обсуждением его сложного наследия. Насколько правильно пересматривать культуру, произведения из другого времени и вымарывать неполиткорректные слова?
— Мы все, так или иначе, люди из советского времени. Можно вспомнить, как тогда публиковали несколько неоднозначных иностранных авторов, сопровождая их идеологически выверенными предисловиями о том, как что правильно понимать. Любой человек, причастный к советской культуре, помнит этот поразительный эффект, усиливавший воздействие первоисточника. Есть целый ряд довольно показательных и одновременно комично тревожащих действий, привлекающих внимание своей курьёзностью. Остается надеяться, что они такими и останутся.
— А есть ли у вас ощущение, что мы идём своим особым путём? Например, в фильме «Супернова» с маркировкой «18+» прокатчик вырезает три минуты, связанные с интимной однополой сценой.
— Собственно, особого пути я не вижу. Вы недаром вспомнили маркировку «18+». Напомню, что пришла она как раз из западных практик. Как и культура отмены и все процессы, которые за рубежом описываются как новое пуританство. На данный момент это ещё и история про условные духовные скрепы. Но это всё бахрома и финтифлюшки сверху.
мы относимся друг к другу как к средству. Мы люди, мы так устроены
— В марте мировой сенсацией стало интервью принца Гарри и Меган Маркл. Супруги признались, что в королевской семье задавались вопросом о цвете кожи их нерождённого сына. Это вызвало у Меган мысли о самоубийстве. То, что расовый вопрос затрагивает даже консервативный королевский двор Великобритании, является подтверждением масштабности проблемы? Отреагировав на это заявление, Букингемский дворец собрался ввести должность руководителя по вопросам разнообразия.
— Интервью вполне ожидаемое. Королевское семейство действительно устроено как предмет наблюдения и любопытства. Происходящее важно как показатель, как симптом. Но я бы подчеркнул, что как раз ситуация с введением специалиста по расовому разнообразию в королевской семье вновь тема про болезненность и разность. Само такое разграничение более отчётливо устанавливает дистанцию.
— Говоря о новой этике, часто упоминают движение Black Lives Matter*. Одним из его знаковых событий стал снос памятников тем, кого демонстранты сочли символами угнетения и расизма. Нужно ли нам такое переосмысление, например, десоветизация и избавление от бэкграунда СССР?
— На мой взгляд, абсолютно ненужно. Войны памяти, войны прошлого не очень остры в отечественном сообществе. Значительная часть советского прошлого оставила семиотические детали, то есть часть пейзажа. Начинает искрить в тот момент, когда предлагают, например, вернуть Дзержинского на Лубянку. Почти никого не волнует, что в это же время Ленин в каком-то сквере тихо стоит, засиженный голубями. Став частью парковой скульптуры. Это не про советскую власть, не про диктатуру пролетариата — просто ландшафт. Другой вопрос в постоянных попытках разогрева прошлого. И то, что было почти никому не важно, вдруг приобретает огромное значение, с редчайшими исключениями.
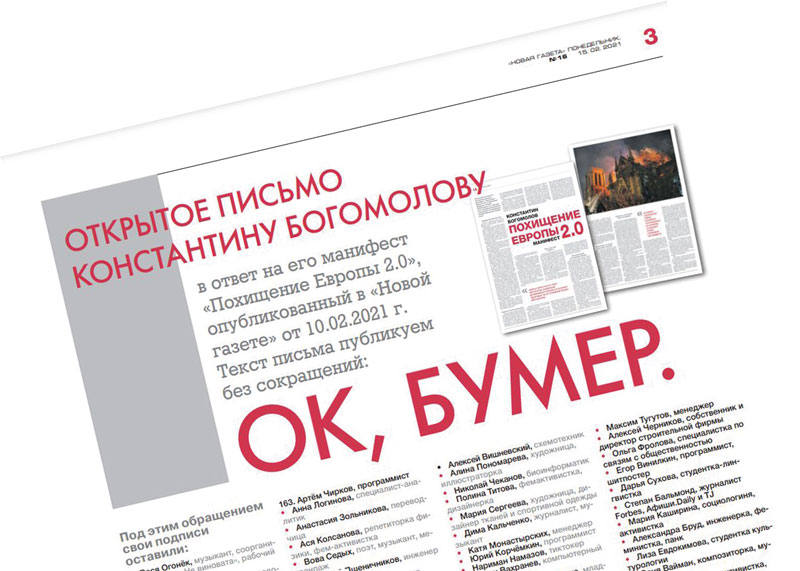
— Как понятие новой этики соотносится с этикой Иммануила Канта? Главная моральная ценность в его трудах — человеческая личность, к которой необходимо относиться как к цели, а не средству. А поступки совершать, исходя не из желаний и страхов, а следуя нравственному закону.
— Хотел бы уточнить, что Кант всё-таки говорит не о том, что мы должны относиться ко всякому человеку как к цели, а не средству. Если бы он так сказал, был бы хорошим человеком, но плохим мыслителем. Относиться ко всякому человеку только как к цели нельзя. Например, вы сейчас ко мне относитесь как к средству: берёте у меня интервью с определёнными целями и намерениями, у вас есть рабочий план. Кант говорит гораздо более серьёзно: нельзя относиться к человеку только как к средству, вот это очень важная оговорка. В человеке необходимо видеть ещё и цель. Понятно, что мы относимся друг к другу в том числе как к средству. Мы люди, мы так устроены.
— Новая этика уделяет особое внимание вопросам защиты прав женщин. Как вы оцениваете их положение в России?
— Я бы сказал, что феминистская проблематика связана с признанием равенства прав, с уважением, с публичным языком в частности. Сексистские высказывания — и стоящие за ними действия — воспринимаются во многих ситуациях как не просто приемлемые, а как свидетельство хорошего тона и утверждение своего достоинства. Бросается в глаза не просто показное пренебрежение, а демонстративное к
— Как вы думаете, какое будущее ждёт новую этику?
— Здесь трудно быть пророком. Например, можно сказать, что история с натиском культуры отмены сейчас затухла. Агрессивный заход, который произошёл в рамках того же американского контекста, вызвал отнюдь не однозначную реакцию. Представить себе, что эта линия по всем фронтам победит, довольно сложно.
— Есть ли вероятность, что появится «новая этика 2.0» и наши сегодняшние действия и высказывания будут снова пересмотрены и названы неприемлемыми?
— Конечно. Так всегда происходит. Подвох связан не с пересмотром, мы постоянно пересматриваем границы должного. Любая этика находится в движении. То, что сегодня воспринимается как традиционная этика, было принято условно 60 лет назад, но веком ранее воспринималось как вызов. А, например, 120 лет назад то, что называют традиционной семьёй, считалось чуть ли не грехопадением: невенчанное сожительство, разводы. То, что в очередной раз нормы изменятся, можно предрекать со стопроцентной уверенностью.
* – Жизни чернокожих важны
Карен Априянц
Фотографии из архива редакции,
Instagram и с сайта «Новой газеты»16+
